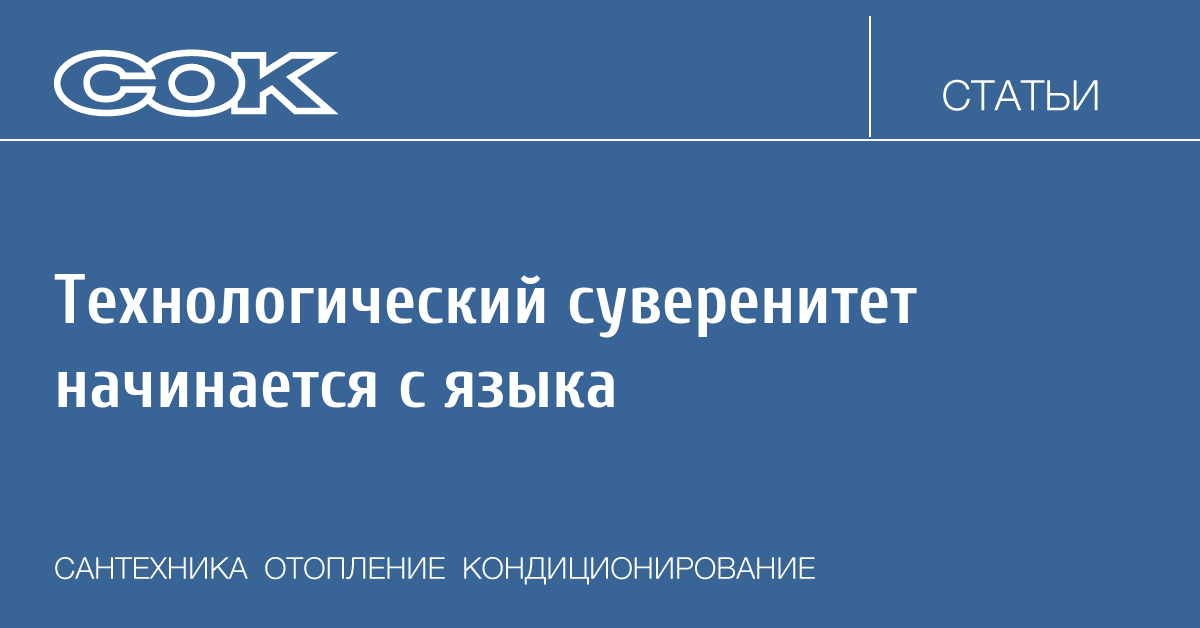Михаил Евгеньевич, знаю, что дискуссию о терминологии в сфере информационного моделирования вы называете практическими важной. С чем связано ваше пристальное внимание к этому вопросу?
— Это действительно не какие-то частные придирки к словам, а стратегически важный вопрос. Мы до сих пор сталкиваемся с ситуацией, когда терминология в области информационного моделирования не всегда однозначно закреплена в документах. И это, казалось бы, формальное упущение на практике приводит к конкретным и порой абсурдным последствиям.
Так случилось, что термин «BIM» не вошёл ни в один из нормативно-правовых документов. Фактически это переводит его в профессиональный жаргон. Мы всё ещё говорим «BIM» — как какой-то универсальный ярлык, не требующий уточнений. Более того, само это слово у части профессионального сообщества вызывает почти «религиозный трепет» сопричастности к чему-то волшебному, что меняет мир по щелчку пальцев.
Получается, что «BIM» — что-то высокотехнологичное, почти сакральное. А вот если сказать «технологии информационного моделирования», то для некоторых это уже звучит как что-то, на коленке сделанное. В любом случае информационное моделирование как отрасль развивается в направлении управления данными гораздо динамичнее, чем западный BIM, и эту реальность и амбиции нельзя игнорировать. Конечно, мы говорим с иронией, но, например, коснись дело того же документооборота в бухгалтерии, жаргонные названия — уже не шутка. И с этим надо что-то делать.

Михаил Бочаров, заместитель генерального директора по науке АО «СиСофт Девелопмент»
Михаил Евгеньевич, начало интригующее. Можно ли подробнее?
— Вот, пожалуйста, реальный сценарий, который я недавно обсуждал с коллегами — не буду называть фамилии, тем более под запись. Я говорю: зачем вы везде упорно пишете «BIM-модель», «BIM-координация»? Допустим, государство запускает систему стимулирования цифровизации и в каком-то постановлении прописывает: предприятия, использующие информационные модели (ИМ), получают налоговую льготу. Всё логично. Фирма заказывает проектной организации выполнение работ, а в договоре будет написано — «BIM-модель». Подписали. Сдали. Всё вроде бы хорошо. Но хорошо ли?
И что же нехорошо?
— Главный бухгалтер предприятия приходит в налоговую инспекцию и говорит: «У нас есть право на налоговую льготу — вот акт, вот BIM-модель». А инспектор открывает регламентирующий документ и говорит: «Подождите… У вас написано «BIM-модель», а в постановлении — «информационная модель». Это не то же самое. Вы сделали что-то другое».
Бухгалтер в недоумении: «Да это же одно и то же!» А инспектор спокойно отвечает: «Разве? Тогда пусть ваш админ или кто там у вас такой умник, сказавший вам, что BIM и ТИМ — синонимы, придёт и объяснит нам это». Ситуация, в общем, анекдотичная. Но дальше серьёзнее. Бухгалтер идёт к директору: «Мы могли бы получить налоговую скидку на пять миллионов «с копейками», но в налоговой говорят: извините, BIM — это не ТИМ. А у нас в документах именно так и прописано — BIM».
Кстати, на сегодняшний день такая же ситуация и с «цифровой информационной моделью» (ЦИМ). Появившаяся в Постановлении Правительства РФ №614 [1] ЦИМ так и не получила необходимого статуса, и это также большая проблема.
Вот к чему приводит понятийная неразбериха. Это не просто вкусовщина или борьба за идеологическое первенство. А риск прямых финансовых потерь. Хотя данная история пока гипотетическая.

Теперь вижу, что подмена терминов — это не просто лингвистика, а реальный источник проблем…
— Абсолютно верно. Ведь, строго говоря, ИМ — это модель, формируемая и ведомая с использованием технологий информационного моделирования (ТИМ). Более того, всё чаще и чаще становящаяся участником обмена данными с другими информационными системами, не свойственными BIM. А это дополнительные требования и решения. Сейчас мы пока исправляем ситуацию с помощью создания дополнительных систем, например, ИСУП (информационная система управления проектами), но рано или поздно «количество переходит в качество» и устаревшее заменяется новым. Поэтому, когда мы продолжаем назвать это как «BIM-модель», мы не просто искажаем слово, мы рискуем «заложить мину» под весь процесс. Потому что BIM, кроме мифического волшебства, имеет чётко прописанные правила — международные стандарты, которые нужно выполнять, называя BIM. А это уже не всегда возможно. Например, та же «среда общих данных» и формат IFC. Как бы они ни были привычны и любимы, они уступают место более современным и гибким технологиям. В том же стандарте ЕСИМ [2] уже есть понятие «единое информационное пространство», а это уже первый шаг от среды общих данных к более гибкому инструменту, начиная с этапа строительства. Хотя в разработках ГК «СиСофт», альтернативных стандарту ЕСИМ [2], с 2021 года предлагалось ввести более универсальный термин «информационное пространство», но это ещё впереди. Потому подобные наименования — не простая игра слов, а смысловой подтекст, и их игнорирование может привести к грубейшим юридическим и управленческим ошибкам.

То есть речь идёт не просто о терминах, а об общей языковой дисциплине в профессиональной среде?
— Совершенно верно. В государстве, если уж мы говорим об обновлении отрасли, мы должны использовать официально утверждённую лексику. Суть в том, что, если ты представляешь профессиональное сообщество, говори как положено. Мы ведь строим системный подход к цифровизации строительной отрасли, а не пытаемся «натянуть сову на глобус»? Или всё же пытаемся?
И вот ещё: формулировка «ТИМ-технологии». Что это вообще? «Технологии информационного моделирования — технологии»? Это уже тавтология, избыточность на ровном месте. Или «ТИМ-менеджер», «ТИМ-мастер» — ну послушайте, давайте хотя бы с точки зрения русского языка наведём порядок.
Давайте ещё раз вспомним уже упомянутый ЕСИМ [2], в котором вообще написано: «Технология — это база знаний». Представляете — «база знаний»! Но любая, даже самая маленькая база знаний по объёму и смыслу всегда больше, чем некая технология. Это же логически не складывается. Здесь прямая попытка снизить значение термина, введённого Президентом России. Напомню текст президентского поручения №Пр-1235 [3]: «…переход к системе управления жизненным циклом объектов капитального строительства путём внедрения технологий информационного моделирования…». Эту фразу желательно прочесть и в Минцифры России, чтобы пересмотреть классы программного обеспечения.
Но как быть с торговыми названиями и учебниками, в которых так и написано: «BIM»? Устраивать «охоту на ведьм» никто не собирается. Ведь названия даются с расчётом на рынок: торговая марка должна помогать продажам. Бренд. Он может называться как угодно, пока не нарушает закон. Мы же про содержание говорим, а не про лейблы. Если в России на законодательном уровне запретят вывески на иностранном языке, вот тогда и торговым маркам, скорее всего, придётся адаптироваться. А пока это несущественно. Зато учебник — уже про воспитание на уровне профессионального языка. И там писать «BIM» — это, извините, ошибка.

Михаил Евгеньевич, а как складывается нормативная база в части терминологии? Где лежит основа того, как мы обязаны называть информационную модель и технологии, с ней связанные?
— Тут всё достаточно чётко, просто нужно проследить развитие законодательства. В Градостроительном кодексе Российской Федерации [4] в 2019 году после внесения изменений №151-ФЗ [5] впервые появляется определение информационной модели. Причём это не абстрактная концепция, а вполне конкретное положение: информационная модель рассматривается как проектная или рабочая документация, то есть определены критерии и границы смыслов, и это очень большой шаг. Ещё один смысл, который не все оценили или усиленно пытаются проигнорировать: «взаимосвязанность» — предтеча первого шага к машинопонимаемости.
Следом — Постановление Правительства РФ №1431 [6] c последующей его заменой на ПП РФ №614 [1]. Вот там уже появляется системный смысл: технологии информационного моделирования — это то, с помощью чего формируется и ведётся информационная модель. Причём прямо в документе даны определения, что такое формирование и ведение. Всё строго: перечни действий, конкретные механизмы работы с моделью.
Таким образом, у нас складывается двухконтурная структура: формирующие технологии и технологии, отвечающие за ведение информационной модели. Именно это закреплено нормативно и именно это мы обязаны учитывать при любой официальной трактовке ТИМ.
Теперь обратимся к ещё более раннему документу — Поручению Президента России №Пр-1235 [3]. Это важная отправная точка. Президент в своём поручении прямо формулирует цель: перейти к управлению жизненным циклом объектов капитального строительства с помощью внедрения системы технологий информационного моделирования. Обратите внимание: во множественном числе. Это важнейший момент, потому что многие до сих пор продолжают говорить о «технологии информационного моделирования» в единственном числе. Но в официальных документах — другое.
Когда разрабатывалось новое Постановление Правительства РФ №614 [1], я задал вопрос заместителю директора Департамента цифрового развития Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Инге Александровне Яценко. Тогда проходила публичная дискуссия, запись которой легко найти: она есть и на RuTube, и на YouTube. Я прямо спросил: «Скажите, пожалуйста, почему вы пишете в тексте и пояснительной записке то во множественном числе, то в единственном, определитесь».
На тот момент в проекте постановления формулировка «технологии информационного моделирования» встречалась трижды: дважды во множественном числе, один раз в единственном. Инга Александровна выслушала, записала этот вопрос. И когда постановление было утверждено, формулировка осталась исключительно во множественном числе. Всё. Вопрос закрыт. Есть указание президента, есть официальная редакция. Множественное число — и точка.

Как сегодня развивается работа с ТИМ на уровне профессионального сообщества и государства?
— Сейчас мы как раз активно сотрудничаем с Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) по соглашению с комитетом по информационному моделированию в градостроительной деятельности Ассоциации разработчиков проектных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Эта работа строится по утверждённой дорожной карте и заключается в выявлении реальных потребностей строительного рынка в технологиях информационного моделирования.
И знаете, здесь важно уйти от абстрактных формулировок. Говорить просто «технологии» — это ни о чём. Звучит как некая область знаний, нечто эфемерное, философское. Мы же предлагаем подойти иначе: структурировать всё, что сегодня называют ТИМ, по уровням: группы, подгруппы, подподгруппы. Дойти до такой степени детализации, где на любой элемент можно ответить строго: «да» или «нет». «Работает» или «не работает». Никаких «вроде бы хорошая», «возможно, полезная», «нравится — не нравится»… Подобные оценки — для романов. А у нас инженерная, нормативная среда, где нужны чёткие бинарные ответы.
По сути, мы предлагаем задать системе критерий «уровня осетрины» [улыбается]: либо свежая, либо испорченная. Нет третьего.
И вот тут важно обратиться к тому, что уже есть. На сайте Минстроя размещён реестр задач, связанных с формированием и ведением информационной модели на проектно-строительном этапе. Их 28 (на момент интервью). И, хотя формально речь идёт о задачах, по сути, это 28 технологических групп. То есть каждая задача отражает определенный класс технологий.
И что интересно: по 12-ти из них напрямую указано, что зарубежных решений не существует. Их просто нет. Не потому, что иностранцы чего-то не знают или не умеют. А потому что у нас задачи и рынок другие. Мы находимся в иной фазе, в других условиях, с иными приоритетами. Нам эти технологии уже объективно нужны, а там, за рубежом, такие задачи просто не стоят. Поэтому говорить, что BIM и ТИМ — одно и то же, уже некорректно. И чем дальше мы развиваемся, тем всё меньше между ними общего. Этот разрыв не сокращается — он, наоборот, увеличивается.

В чём, по вашему мнению, кроется главный корень проблемы, связанной с подменой понятий ТИМ и BIM?
— Сейчас особенно важно продолжать развивать эту тему, потому что за внешне безобидным противопоставлением «BIM» и «ТИМ» стоит куда более глубокий и, я бы сказал, опасный процесс. Я начал об этом говорить в начале нашей с вами беседы. Мы поддаёмся на замену — ставим телегу впереди лошади. Вроде бы техническая терминология, а последствия — политические, экономические, идеологические.
Почему, собственно, так происходит? Да всё очень просто. Есть желание некоторых зарубежных игроков вернуться к нам, в страну, на рынок, с которого они ушли. Причём вернуться красиво — с флагами, с лозунгами, в ореоле «великих и могучих». Как будто домой. Только это уже не дом. Здесь всё изменилось. Они возвращаются туда, где уже не могут решить 12 из 28 задач, определённых Минстроем как критически важные для формирования и ведения информационной модели.
Нам навязывают эту рамку. А мы с готовностью в неё вписываемся. Нам говорят: BIM — это передовое, это международное, это высшая лига. А всё наше — нечто вторичное, неполноценное, тёмное. И мы, вместо того чтобы взглянуть на вещи трезво, начинаем поддакивать. Хотя давно пора взглянуть в другую сторону.
«Вы знаете, милейший, разруха не в клозетах, а в головах», говорил профессор Преображенский в «Собачьем сердце». Разруха начинается с неправильных слов. С неправильных названий. Мы не освободимся, если продолжим мыслить чужими терминами. Пока не научимся выкидывать из головы вот эту ложную зависимость. И только тогда у нас по-настоящему пойдут процессы. Только тогда мы сможем выстроить уникальную национальную систему — по своим правилам. Без заимствованных костылей, без перекосов.